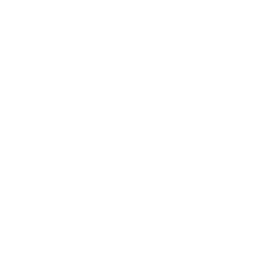– Олжабай Кайкенович расскажите о происхождении Вашего имени и фамилии. В честь кого Вас назвали Олжабаем?
– Олжабай Кайкенович расскажите о происхождении Вашего имени и фамилии. В честь кого Вас назвали Олжабаем?
– Имя «Олжабай» дали мне из-за того, что я родился семимесячным ребенком, и родители боялись за мою жизнь. Какое-то время я жил вообще без имени. И «Олжабай», в своем роде, означает «подарок Бога», как бы в благодарность Всевышнему за то, что он оставил меня жить на этом свете.
Фамилия «Жармакин» происходит от слова «жармақ», слова довольно редкого в казахском языке, и означающего «половина целого». Моего Деда звали «Жармақ», а на самом деле его имя было «Жармағамбет». Таким образом, моя фамилия должна была звучать «Жармағамбетов». Однако, в силу того, что казахи любят сокращать имена, фамилия моя стала «Жармакин».

– Я поступил в институт иностранных языков, а это, безусловно, тоже лингвистика и филология. Вообще, первоначально я хотел быть и врачом, и может даже металлургом, однако выбрал именно языки и лингвистику. Вообще же лингвистика серьезно появилась в моей жизни, когда я учился в Ленинградском госуниверситете на двухгодичных высших курсах по иностранным языкам.
– Расскажите, пожалуйста, о годах Вашей учебы. Насколько нам известно, Вы учились в Ленинграде.
Высшие курсы при университете предназначались специально для подготовки преподавателей для вузов. Мы, слушатели курсов, получили не только практические навыки устной и письменной речи на иностранном языке на более высоком уровне, но и солидную теоритическую подготовку, можно даже сказать, европейское классическое лингвистическое образование.
– Нам известно, что Вы с особой теплотой вспоминаете годы стажировки в ГДР и как символ тех ярких лет мы знаем – это Ваш знаменитый кожаный портфель. Как вообще получилось так, что Вы поехали туда? Что из тех лет Вам больше всего запомнилось? Ведь тогда все было по-другому. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробней.

– В ГДР, конечно, стажировка отличалась. Отличие было в том, что нам там больше приходилось прибегать к устной спонтанной речи. Кроме того мы не имели возможность разговаривать по-русски и. таким образом, мы учились думать на иностранном языке. Безусловно, это было для нас хорошей практикой.
Видите ли, в программе учебы было больше свободы. Приходил профессор или доцент, и хотя у него скорее всего был план проведения того или иного мероприятия, он часто отвлекался от заданных рамок, представляя материал, и в конкретном узком контексте, и широко, делая лирические отступления. Мы усваивали какие-то штрихи, нюансы, где-то исторические моменты. Всего того, что лектор говорил мы не знали, поскольку этого в нашей советской программе не было. Поэтому эти занятия были очень интересными, особенно с точки зрения непосредственного эмоционального общения с носителем языка.
– Я еще раз повторюсь, в языкознание я ушел под влиянием высших курсов, которые проходил в Ленинграде. В тот период нам читали лекции всемирно известные ученые, такие как Зиндер Лев Рафаэлович – основатель Ленинградской фонологической школы. Как тогда говорили, было два Льва: Щерба Лев Владимирович и Зиндер Лев Рафаэлович; Жирмунский Виктор Максимович, автор многих учебников, читал нам историю немецкого языка. Можно сказать, что в своей сфере эти люди были как боги. Они имели непререкаемый авторитет и, по сути, были «ходячими энциклопедиями». Естественно, под влиянием таких мастеров, таких корифеев языкознания, я невольно проникся этим предметом и стал фокусироваться на теоретических вопросах лингвистики.
– Ответ на этот вопрос лучше, наверное, начать с оглядкой на студенческую скамью. Всю свою сознательную жизнь я провел в женском коллективе. Начиная со студенческих лет, где из 65 студентов на первом и последующих курсах, было только пять парней, т.е. остальные 60 были девушки. И с тех пор, мне в какой-то степени везет, что в каждом трудовом коллективе женщины составляли 90 и более процентов. Безусловно, этот женский фактор в моей жизни сыграл решающую роль в формировании меня как личности, как человека, как работника вуза. Я всегда вспоминал слова своего отца, который говорил: «Никогда не входи в конфликт с молодежью и женщинами». Я это запомнил, и это мудрое наставление отца помогало мне в жизни не один раз. Где бы я ни работал, я старался, особенно в микроколлективе, найти взаимопонимание путем взаимных уступок, естественно, в разумных пределах. Думаю также, что мой открытый характер, ответственное отношение к любому делу и чувство обязательности, которое я приобрел у немцев, в официальных и неофициальных отношениях со всеми с кем работал или просто общался, помогали мне в выполнении служебных обязанностей, которые на меня были возложены. Ведь неспроста же на посту заведующего кафедрой ПГПИ меня «терпели» (улыбается – прим. ред.) более 25 лет. Я считаю, что причиной тому было то, что меня воспринимали адекватно. И я считаю, что в этом и есть суть – уметь находить золотую середину между словом и делом. Именно это мне и помогало работать и творить.
– Я как любой педагог подчеркиваю, действительно горжусь своими учениками. Учеников у меня было много и многие из них стали известными. Если вкратце то я могу выделить сестер Сабитовых, они доктора филологических наук. Т.е. они пошли по пути лингвистики, по пути науки. Также могу выделить Демесинову Галину Хатиповну, Каирбаеву Акмарал Канатбековну, а вообще у меня, повторюсь, еще очень много учеников, которые стали признанными мастерами своего дела. Всегда приятно видеть реальные плоды своего труда, вложенных в человека, творца всех благ жизни, по-большому творца своего времени.
– А как Вам удавалось «заразить» своих учеников наукой? Как у Вас получалось заронить в них то самое зерно, которое давало такие хорошие всходы?
 – Видите ли, в этом, наверное, было веление времени, а не только мое непосредственное влияние. Почему «веление времени»? Потому что, в тот период вуз рос, проходил период своего становления, а без кандидатов и докторов, без ученых вуз – это не вуз. Поэтому условия нашей жизни требовали, чтобы мы повышали свой уровень, свою квалификацию. На тот момент, а это была середина 60-х годов, у нас почти у всех в семьях было по 2-3 ребенка, а мы все побросали и человек 20 уехали в Алматы и центральные вузы Союза, дабы защитить диссертации. Кроме того, в эти годы становления, к нам приехало очень много кандидатов и докторов наук из России. Они, в свою очередь, создали особый научный климат, помимо климата методического, педагогического и воспитательного. Появился некий азарт, можно сказать кураж к науке. И такова была общая атмосфера. Без науки мы не представляли себе работу в вузе. Поэтому в этом есть, конечно, и моя лепта, но в целом тот расцвет ПГПИ, который пришелся на период 70-80-х годов – это, безусловно, заслуга всего коллектива.
– Видите ли, в этом, наверное, было веление времени, а не только мое непосредственное влияние. Почему «веление времени»? Потому что, в тот период вуз рос, проходил период своего становления, а без кандидатов и докторов, без ученых вуз – это не вуз. Поэтому условия нашей жизни требовали, чтобы мы повышали свой уровень, свою квалификацию. На тот момент, а это была середина 60-х годов, у нас почти у всех в семьях было по 2-3 ребенка, а мы все побросали и человек 20 уехали в Алматы и центральные вузы Союза, дабы защитить диссертации. Кроме того, в эти годы становления, к нам приехало очень много кандидатов и докторов наук из России. Они, в свою очередь, создали особый научный климат, помимо климата методического, педагогического и воспитательного. Появился некий азарт, можно сказать кураж к науке. И такова была общая атмосфера. Без науки мы не представляли себе работу в вузе. Поэтому в этом есть, конечно, и моя лепта, но в целом тот расцвет ПГПИ, который пришелся на период 70-80-х годов – это, безусловно, заслуга всего коллектива.
– Нам бы не хотелось политизировать наш разговор, однако нам известно, что Вы с самой юности исповедуете коммунистические идеалы. Способствовало ли членство в коммунистической партии развитию Вашей личности в позитивном ключе?
– Что Вы считаете Вашим главным достижением в области филологии, лингвистики и языкознания?
В теоретическом плане я работал в области синтаксиса простого предложения. В практическом же плане я в последние 10-15 лет старался разрабатывать курсы лекций для студентов по циклу лингвистических дисциплин. Что же касается общих, чисто теоретических, вопросов лингвистики, то ими я начал заниматься с 2000-х годов, когда перешел работать в университет. Тогда мне поручили на своем факультете вести лингвистические курсы. Как результат, мною, в соавторстве с другими преподавателями, были созданы 5 учебных пособий для вузов на казахском и русском языках: «Введение в языкознание» (2 учебника на русском и казахском языке), «Общее языкознание», «История лингвистических учений» и «Лингвистика текста» (на казахском языке).
– То есть, как бы парадоксально это не звучало, в этой области попросту не было или же было очень мало учебников и лекций на казахском языке?
– Именно так. Особенно это касалось лингвистики текста, т.е. ситуация была такова, что учебников в этой сфере на казахском языке было катастрофически мало. И мне кажется, что крупные вузы республиканского масштаба, скорее всего, составляли подобные пособия, но исключительно для внутреннего пользования. Поэтому, в соавторстве с другими учеными, мы выпустили именно такие учебные пособия, так как того требовала тогдашняя образовательная конъюнктура.
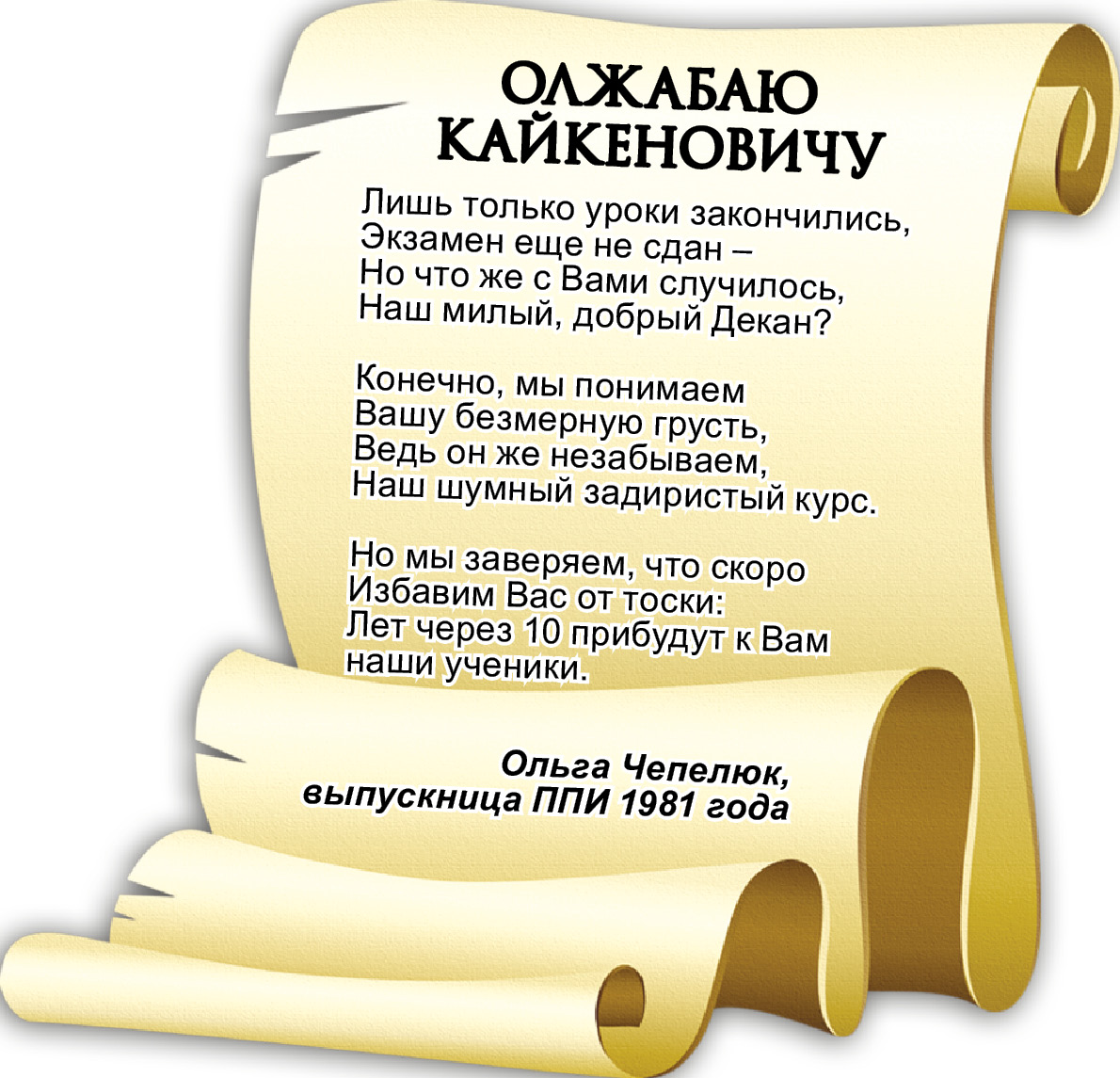
– Вера в человека, вера в студента. Сколько бы я не сердился, я не могу долго оставаться в этом состоянии. Я очень быстро «оттаиваю». Я думаю, если он сегодня не подготовился или же показывает слабые знания, я уверен, что это явление временное, что он «подтянется» и покажет хорошие результаты. Мне все время кажется, что трудности преодолимы, лень также можно преодолеть, что студент со временем станет лучше, серьезнее, ответственнее. Это чувство меня никогда не покидало. И вообще, по большому счету, если не верить в студента, то работать в вузе нет смысла. Этот процесс всегда обоюдный и, если я – преподаватель, не верю в своего студента, то у меня никогда не будет реальных результатов и достижений.
А что касается долголетия, то его я объясняю, в первую очередь, уважением к людям. Уверен, что каждый человек – уникум, со своими добродетелями и недостатками. Любить себя нужно, но ставить других ниже себя по достоинству никак нельзя.
– В своей практике преподавания грамматики немецкого языка я иногда сравнивал чисто теоретические явления с практикой жизни, чтобы сделать материал, более доступным. Приходилось проводить параллели с явлениями более привычными студенту в повседневной жизни, как бы визуализировать теоретические понятия. Нередко приходилось проводить аналогии с разными неродственными языками, дабы донести до студента суть рассматриваемого вопроса. В любом случае, если это дает положительный эффект и мой студент таким образом усваивает материал, такие методики говорят сами за себя.
– Насколько Вы требовательны к людям, настолько Вы требовательны и к себе. Вы всегда одеты в строгий костюм и соблюдаете этот дресс-код неизменно. Вы считаете, что преподаватель – это лицо университета?
– Совершенно верно. Я считаю, что преподаватель – это, действительно, лицо университета. И от него во многом зависит имидж высшего учебного заведения. И всякий раз, отправляясь в университет, я помню об этом и стараюсь поддерживать себя на должном уровне, как внешне, так и внутренне. В общем, отношусь к этому очень серьезно.
– Продолжая тему, хочется отметить, что люди, находясь в вашем обществе, неизбежно «собираются», как бы стараясь привести себя в порядок. Как Вы считаете, чем это объясняется?
– Вы знаете, я в жизни, прежде всего, ценю преданность: преданность Родине, преданность своей стране, преданность нации, семье, профессии, своему делу, и, конечно же, преданность студенту. Почему я сделал акцент на студентах? Потому, что без них попросту нет учебного заведения. Если сказать по сути, то преданность – это кредо моей жизни. Если этого не будет, то не будет и внутреннего стержня. А когда нет стержня, получается анархия какая-то. Понимаете? Когда дело и слово должны идти рука об руку. Пообещал? Сделай! Поставил задачу? Реши! Вот эту самую конкретность, обязательность и умение говорить человеку правду, я больше всего ценю в людях.

– Этот вопрос для меня очень трудный. Видите ли, моя жизнь проходит в основном среди студентов и коллег-преподавателей. А в этой среде я должен быть естественным, открытым и доступным. Моя работа и характерная ей конкретность неизбежно требуют от меня лаконичности, и выходит так, что у меня попросту нет времени на разного рода «размазывания», и я не должен объяснять кому-то причины своих поступков. По возможности должен решать задачи четко, а это, конечно же, требует прямолинейности. Вообще же, я для себя внутри думаю, что прямолинейность – это как оружие с обоюдоострыми концами. Применять ее надо всегда осторожно, разумно, иначе можно самому покалечиться. Все должно быть в разумных пределах.
– Я благодарю Вас за интересные вопросы. Прежде всего, желаю своему родному коллективу университета во главе с нашим уважаемым ректором Сериком Мауленовичем здоровья, успехов в нашей совместной деятельности на благо нашей Республики. И конечно же человеческое общество не может жить без счастья, поэтому я желаю всем, каждой семье, каждому человеку простого человеческого счастья.
Вместо заключения
А когда он говорит, хочется слушать его и слушать, как будто он шагнувший из древности сказитель народных преданий, несущих мудрость предков и былых времен.
И это удивительно. Удивительно потому что этот Мудрец и Аксакал после всего, что видит каждый день, общаясь со студентами, несмотря ни на что не теряет в них веры. Человек Воли и Дела, с несгибаемым внутренним стержнем.
Нам же остается только в очередной раз убедиться, что истины мудрецов всегда просты, но оттого еще сложней им следовать.
Прозвенит звонок на перемену, студенты сразу же забудут все, что им только что говорилось и веселой кучей-малой повысыпают из аудиторий…
…А мудрый Аксакал улыбнется по-доброму так, с лукавым прищуром, поглядит проникновенно во всю глубину своих глаз, на легкодумных и беззаботных студентов, мол, «Какие ваши годы… Молодо – Зелено» и пойдет навстречу новому дню творить науку, нести свет знаний.
И глядя ему в след, хочется сказать: «Господи, дай ему еще сто лет жизни, чтобы мы не остались в темноте».
Беседовала
РУФИНА ТОРПИЩЕВА
«Білік» № 1 (174), 2015 жыл, 29 қаңтар